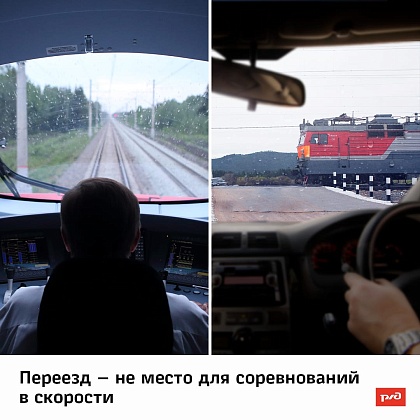В рубрике «30 лет спустя» мы продолжаем вспоминать события новейшей истории страны и региона, прибегая к помощи известных астраханцев. И сегодня гость рубрики — журналист Ольга Сосновская. Обаятельная женщина, настоящий профессионал своего дела, телезвезда 90-х годов, лицо «золотой эпохи телевидения».
- Ольга Анатольевна, мы тут, в преддверии юбилея новой России, завели привычку вспоминать эпоху перемен. Сегодня ваша очередь. Давайте оттолкнемся от 1991 года?
- 1991 год был историческим не только для страны, но и лично для меня. Я в ту пору работала на местном телевидении, у меня уже были хороший рейтинг и узнаваемость. По тогдашним меркам этого было достаточно для того, чтобы числиться в «звездах». Мне очень повезло, что я работала с режиссером Юрием Заворотнюком (отец актрисы Анастасии Заворотнюк - прим. ред.), это был профи высочайшего класса. Нашу группу по первым буквам фамилий в шутку называли «засос», и мы делали все, чтобы сюжеты не были скучными и пресными.
И вот, 13 мая, меня вызывает к себе главный редактор и говорит, что нужно сделать сюжет на Москву. Там создано принципиально новое телевидение — РТР, программа «Вести». От привычного ЦТ отличается большей свободой и смелостью. Я поначалу отказывалась, но куда деваться — поехала. В ту весну у нас было страшное наводнение. А как снимать наводнение, если не сверху? Прибыли на аэродром в Приволжье, стала я требовать вертолет. Мне говорят — нет возможности, тут Дьяков и Гужвин (главы обкома и облисполкома) вылетают. Я — в крик! Москва ждет сюжета уже в обед, а его еще сделать надо и перегнать!
Подходит Анатолий Петрович. Спрашивает — чего шумишь? Я объясняю. В итоге мы с ним полетели, и он сам показывал масштабы бедствия — затопленные дома, плывущих и тонущих коров. К журналистам он относился по отечески. Как не вспомнить этого человека добрым словом?
Сюжет я сделала, хоть и в экстремальных условиях, вечером он вышел. И так началась моя карьера собственного корреспондента РТР. А уже второй мой сюжет о паводке, где я плавала на утлой лодочке и меня унес ветер, стал лучшим сюжетом года в России. Это, пожалуй, моя самая главная награда в жизни.
- Вы работали на РТР с самого начала. Каким было телевидение той поры? Ведь СССР еще не кончился?
- Это было невероятно интересное время, и я счастлива, что получила возможность тогда работать на ТВ. Команда собралась принципиально новая — Света Сорокина, Юра Ростов, Влад Флярковский. Ведь каждый день какое-то открытие! Нет, меня любили и здесь на астраханском уровне, но когда я узнала, что за мои сюжеты в буквальном смысле дерутся ведущие вечернего выпуска — это высшая степень признания, лучший комплимент! И всегда просили у меня какую-нибудь «мулечку». А мы с Заворотнюком старались оправдать ожидания.
В принципе, мы делали свободные и интересные сюжеты и на астраханском уровне. Благо, горбачевская перестройка позволяла говорить не только о партии и ее достижениях. На нашем телевидении тогда работали молодые, очень творческие ребята — Андрей Жиляев, Женя Бабушкин, на радио вещал Игорь Беляков. Молодежная телепередача «Угол» была сверхпопулярной. Мы постоянно экспериментировали, жили этой работой.

Но 1991 год окончательно распахнул шлюзы, а «Вести» стали не просто интересным новостным выпуском, но и возможностью рассказать о жизни в регионах, о наболевшем. И это очень ценил губернатор Анатолий Гужвин, он как то сказал: «Это во многом благодаря тебе, Оля, Астрахань перестали путать с Архангельском». А как-то раз я снимала сюжет о жизни в гнилушках. Там жители написали на стене: «Гужвин, иди к нам жить!». Гужвин видел этот сюжет. Но не обиделся, а наоборот: «Я под этот сюжет в Москве денег выбью».
Мы работали интересно и очень тщательно. Вспоминаю, снимали сюжет о подтоплении. Последний кадр — я говорю финальные слова: «Ольга Сосновская, Астраханская область». В это время мимо проезжающий грузовик обдает меня грязной водой из лужи, и я стою вся в жиже! Это придумал гениальный Юра Заворотнюк. И тут было важно синхронизировать каждую секунду, ведь второго дубля не будет!

- Наверняка, многие зрители зрелого возраста помнят ваши тогдашние подвиги — прыжки с моста, репортажи с верхотуры и т. д. Это было порой очень опасно. Зачем?
- Нам говорили: «Вы, собкоры, наши глаза и уши в регионах». И, конечно, мы старались делать сюжеты острыми, чтобы их заметили, и территория получила пользу. При этом, конечно же, хотелось удивить. Тем более, что у меня это получалось. Мы буквально жили работой, отдаваясь ей полностью.
Меня недавно просили рассказать молодым тележурналистам, как я лазила на телевизионную вышку, к Дню телевидения 7 мая. Зачем туда было лезть? Боялась же… Но нужен кадр, хороший кадр, хотелось впечатлить зрителя. И я полезла. В мини-юбке и красивых колготках, обмирая от страха. А наверху - воронье гнездо! Агрессивные вороны начинают на меня пикировать. Представляете? И я оттуда веду репортаж!
Однажды на брифинге министра обороны, в полевых условиях, я пробралась в первый ряд и опустилась на одно колено, чтобы не загораживать «картинку» операторам. Разговор был долгий. И самостоятельно встать я уже не могла, заклинило…
Но. Я была счастлива! Я получала кайф! Я подпитывалась энергией зрителей и их любовью! Это были безумно классные времена!
- Тогда зрители воспринимали ТВ, как некую значимую инстанцию, обращались за помощью. Приходилось помогать? А главное — удавалось ли?
- Как-то к Дню музеев я делала материал об астраханском таксидермисте и реставраторе Владимире Головачеве, человеке с интереснейшей судьбой. Снимала у него дома, а жил он в ужасных условиях, гнилушка настоящая, с проваленными полами. Но он же часть реставрационных работ дома проводил! Уникальных работ! И я сделала акцент на этом страшном жилье. Через месяц ему дали квартиру. А он позже благодарил меня. Когда я сломала ногу, лечил меня памирским мумием, которое когда-то сам собирал в Таджикистане.
Потом еще одна семья получила квартиру после моего сюжета. У них родилось трое девочек. Одну из них назвали в мою честь.
А самый памятный случай — это помощь Антону Борисову, мальчику-инвалиду, брошенному в доме престарелых. У человека крохотное тельце, с несовершенным остеогенезом. Таких людей называют «хрустальными». И мы с коллегами взяли над ним шефство, кормили, ухаживали, общались. Рассказали о нем всему миру. Сейчас он живет в США, написал книгу «Кандидат на выбраковку».
Так что, телевидение в те годы было действенной инстанцией, оно реально помогало людям.
- Но 1991 год — это не только безграничная свобода. Это еще и необходимость выбора. В августе. И ВГТРК в ту пору могли запросто закрыть. Помните, как это было?
- Конечно. Меня разбудил утром телефонный звонок, муж подруги, работник милиции, спрашивает: «Оля, ты, наверное, в курсе, что там в столице, переворот?». А я ни сном, ни духом. Включаю телевизор — «Лебединое озеро», информации ноль. Еду на работу, мне говорят — мы выполняем приказы ГКЧП. Ни о каких переменах в кадре не говорить, пускайте какое-нибудь старье. Как же так? Мы, естественно, забурлили, стали требовать правды, возможности включить «глас народа» с улицы. Но. За нами следят. Камеру мне не дают. Ослушание грозит увольнением. И мы сделали выбор. Ушли. Я, Жиляев, Бабушкин, всего восемь человек. Приехали ко мне домой, курили, пили чай, спорили. Мне позвонила Москва, они вели репортаж с крыши «Белого дома». Я даже не поняла — какого «Белого дома», американского что ли? Это название еще не вошло в обиход. И вот в режиме прямого включения, по телефону, мы передавали обстановку в регионах. А люди, простые астраханцы, звонили мне домой и рассказывали - что происходит в городе.
Короче, у меня образовалась штаб-квартира. Тем временем, руководитель тогдашнего ТВ Николай Егоркин (ничего личного, просто воспоминание), собрал коллектив, нас назвали отщепенцами, которые бросили работу и не подчинились законным требованиям власти. Заклеймили. И заставили сотрудников подписать письмо, осуждающее нас.
К счастью, все быстро кончилось. Потом было заседание облсовета, и я там выступила, рассказав о том, что творилось в эти дни на ТВ. Шла прямая трансляция. И вскоре мне из одной ИТК прислали искусно сделанный деревянный крест. За победу и выдержку. Это было очень трогательно.
- Так у вас, учитывая «гребень» событий, появилась возможность стать руководителем, начальником, поиметь преференции?
- Ну, быстро пошла различная «пена», появились люди, которые стали бить в грудь, объявляя себя демократами и борцами. У победы ведь тысячи отцов. Были различные некрасивые ситуации. Кто-то, конечно, получал квартиры, должности, возможности. А я оставалась при своих, ничего у власти не просила, да и статус руководителя мне не был нужен. Каждый должен заниматься своим делом. К счастью, зарплату тогда Москва платила, на жизнь хватало. Хотя и не всегда.
- И что делали, когда не хватало?
- Был период, когда мы все пытались что-то продавать, дефицит же — ни вещей, ни денег. У кого что было — то и продавали. Помню ужасный случай, когда наш режиссер продавал ботинки. Красивая такая пара обуви, но… для покойников, была такая услуга. До голода не доходило, хотя… стояли близко. И вот, когда я помогла семье с тройняшками получить квартиру, ко мне пришел дедушка этих девочек. Поблагодарить хотел. С палкой колбасы и буханкой хлеба.
Порой даже ребенка было нечем кормить. Помню, звоню подруге: «У меня две картошки и немного муки, что делать, как жить?». Она предлагает: «Сделай драники».
А был период, во второй половине 90-х, когда Москва перестала оплачивать бензин и технику, денег становилось все меньше и меньше, ни на что не хватало. И случалось работать по бартеру, тут нечего стесняться. Снимали материал о фермерском хозяйстве, а нам за это давали картошку и капусту.
Вот так и жили. И выжили.
- Вы работали собкором вплоть до конца 90-х, которые теперь принято называть роковыми и приснопамятными. Событий было огромное количество, поводов - хоть отбавляй, Астраханская область приобретала новый статус, постоянно приезжали высокие гости. И от мастерства корреспондента многое зависело, в том числе — акценты и выводы.
- Да, это так. Важно было не только сделать что-то остренькое и вкусное, нужно было принести пользу региону и людям. Например, экология. Тогда она была у всех на слуху. Я помню, когда в 1992 году прилетал Борис Ельцин, его повезли на Газпром. К этому предприятию у общественности были претензии по поводу загрязнения. Ельцин при первой записи в аэропорту был еще трезвым, а на Газпроме уже… с красным носом. Красным до такой степени, что Москва пустила этот сюжет в черно-белом исполнении.
Борис Николаевич, находясь в приподнятом настроении, костерил Газпром и грозился его закрыть. А как это можно? Ведь, при всех экологических минусах, это наше предприятие является бюджетообразующим и кормит тысячи семей. Поэтому нужно было давать взвешенный сюжет, избегая крайностей.
- Телевидение той поры и телевидение нынешнее — как говорится, две большие разницы. Сегодня о телевидении, увы, мало кто говорит с уважением. Тогда телевидение — это Листьев, Невзоров, Сорокина, Парфенов, Миткова, Флярковский… Сегодня телевидение это - …. ну, давайте не будем называть знаковые фамилии, чтобы никого не обижать. На Ваш профессиональный взгляд — почему так получилось?
- В начале 90, в силу исторических обстоятельств, телевидение стало свободным. Можно рассуждать о свободе с разных сторон, и обилие свободы в числе прочего приносит и минусы, но факт остается фактом. Сейчас независимого телевидения нет, все так или иначе связаны договорами и контрактами с властью — областной или городской, а также бизнесом, промышленными предприятиями и коммерческими структурами. А если ты связан денежными отношениями — критиковать уже неудобно.
- Вы смотрите телевидение сегодня? Считаете его, как прежде, решающей силой?
- Нет, не смотрю. Все очень сильно изменилось. И я, к сожалению, вынуждена сказать, что сегодня людям, обращающимся за помощью на ТВ, очень часто отказывают: «Мы такие сюжеты не делаем». Это мне рассказывают ныне работающие коллеги. И сами люди в силу ТВ не очень верят. Понимаете, в наше время, когда мы, к примеру, снимали репортаж о затопленном поселке, там не было света. А нам требовалось электричество. И вот, представьте, люди из всех домов собрали все имеющиеся удлинители, соединили, куда-то там подключили и запитали наше оборудование. Вряд ли сейчас такое возможно.
Горько говорить, но телевидение уступило пальму первенства интернету и социальным сетям. Они интереснее и свободнее. И я не хочу хаять нынешнее поколение журналистов, нет, и сейчас есть таланты, есть классно работающие ребята, пусть у них все сложится… Просто изменилась эпоха, изменились тренды, изменились подходы. Журналистика сегодня вряд ли считается элитной профессией, об этом можно судить по постоянно мелькающим вакансиям: «Требуется корреспондент».
Честно говоря, собственным внучкам я никогда не посоветую идти в журналистику. Средняя начала заниматься блогингом, ну и славно, это интереснее. Потому что мало получать деньги за работу журналистом, нужно получать удовольствие от этого. А какое может быть удовольствие, если ты по рукам и ногам связан условиями контракта и правилами политеса?
Важно быть счастливым в своей профессии. И себя я считаю счастливым человеком!